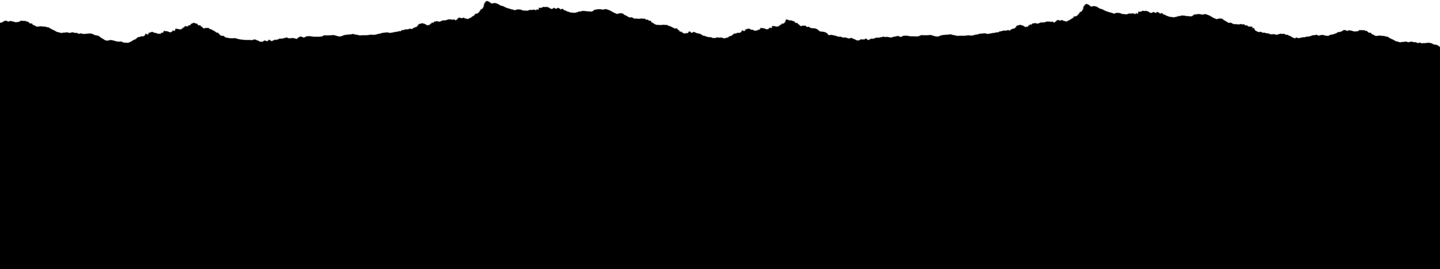«Давай я покажу, как танцевать под грустные песни», — интервью с Викой Радисевой

«Песни, которые умеют обнимать», − так говорит о своей музыке исполнительница из Екатеринбурга Вика Радисева. На «Ночи музыки» она выступала на «Мотив Stage», незадолго до хедлайнеров этой сцены. Недавно у Вики вышел новый альбом «Подростковый минимализм». О том, как рос этот релиз, а также о творчестве, поэзии и танцах под грустные песни, узнаете от самой исполнительницы.
«Можно прятаться от трудностей, а можно сказать: пофиг, пляшем»
Мой первый псевдоним – Weak Radiseva. Взяла его, потому что подумала: это прикольное с точки зрения созвучия решение. Английское слово «слабый» напоминает моё реальное имя. Потом поняли, что на слух это воспринимается сложно: непонятно, как найти песни в поисковике, на каком языке. Потом появился VIQ – честно говоря, уже не помню, каким образом. Быстро поняла, что этот псевдоним не несёт смысловой нагрузки. А потом подумала: нахрена вообще что-то сочинять, если у меня достаточно монолитно звучат имя и фамилия? Тем более у меня нет экстравагантного визуального образа, из особенного – только банданы, которые подключила недавно. И это тоже история про меня. Я на сцене одеваюсь так, как в жизни. Единственное, могу погладить что-то из вещей.
Раньше я думала, что участвовать в фестивалях – например, в New/Open и Ural Music Night – важно, чтобы найти аудиторию. Через несколько лет поняла, что это, скорее, история про профессиональное комьюнити, выстраивание отношений. Хочу добавить, что самые классные договорённости, проекты случаются не на самих фестивалях, а на афтерпати. Когда вы, музыканты, все вместе идёте отдыхать, когда вы уже не обременены техническими вопросами: всё ли пройдёт хорошо, как на выступлении подключат звук, ничего ли не сломается – начинается творчество.
Вспомнился один случай. В 2018 или 2019 году я выступала на отборочном туре фестиваля «Индюшата». Тогда мы ещё позиционировали себя как группу, выступали под именем Weak Radiseva – это сейчас проект стал сольным. Были ещё несыгранными, только недавно взяли гитариста, который в итоге в коллективе не прижился. Вышли выступать во всём чёрном. Песни, которые мы играли, тогда ещё были совсем наивными, в основном про любовь. Формат отбора на «Индюшат» был такой: нужно выйти на сцену, выступить, а жюри после этого сразу же даст обратную связь. И какая-то женщина, кажется, откуда-то с радио, сказала: «Слушай, ну у тебя песни такие скучные, все однообразные. Ты что-то мяукаешь про любовь там, про расставание – вообще не за что зацепиться». И меня это так разозлило. Я пришла домой и написала первый куплет самой прослушиваемой у меня сейчас песни − «Грустные песни». Там есть такие слова:
Мне говорят, что я пишу об одном и том же.
Простите, но другого мяса нет под этой кожей.
И припев, собственно, начинается со строк:
Давай я покажу, как танцевать под грустные песни.
Зачем танцевать под грустные песни? Потому что танец – это не всегда про радость. Да, чаще всего, наверное, люди пляшут, когда им прикольно, весело, легко и замечательно. Но кто сказал, что под грустные песни нельзя отрываться? Я, например, редко хожу танцевать, в основном когда надо выплеснуть свою боль, расстройство, злость. Это классная перезагрузка – по сути, как поплакать. Помогает переживать какие-то трудности, как говорят: «Если жизнь даёт тебе лимон, сделай из него лимонад». Можно прятаться от трудностей, а можно сказать: пофиг, пляшем.
«Любое творчество – терапия для самого автора»
Я всегда говорю о том, что основная задача искусства – помогать задавать себе самому вопросы и находить ответы. Часто, когда пишу композиции, держу в себе какое-то внутреннее переживание, неразрешённую проблему. А я же никогда не знаю, чем закончится песня – пока сижу за инструментом, музыка вырастает на глазах. И вдруг в какой-то строчке нахожу ответ, понимаю, чего хочу от жизни, вижу решение.
Любое творчество – терапия для самого автора, иначе не было бы такого понятия, как хобби. Многие пишут песни, стихи в стол: для них это способ выражения эмоций. Я в какой-то момент подумала: «Может, то, как я проживаю жизненные приколы, нужно ещё кому-то?» Это произошло отчасти потому, что люди подходили ко мне после выступлений и говорили: «Я послушал тебя и теперь знаю, что в этом мире не один». А что может быть важнее, чем дать кому-то понять это?
Во время создания музыки творческий процесс завершается, когда ты заканчиваешь писать песню под гитарку или фортепиано. Дальше идёт уже техническая работа, за исключением создания аранжировки. Как я пишу песни? Как правило, у меня есть два пути. Первый: мне в голову приходит какая-то ритмичная строчка, и всё строится вокруг неё. Я понимаю, про что эта песня будет, что туда можно добавить. Например, в «Сквозняке» из последнего альбома рассказывается про конец отношений, про момент, когда все понимают, что их нужно завершить, но официально этого не происходит. Песня появилась, потому что мне в голову пришла аналогия:
Это не ветер перемен, а так, сквозняк.
Второй путь, когда в голову без каких-либо конкретных рифм и мелодий приходит какая-то концепция. Ты понимаешь, о чём хочешь рассказать сейчас и подбираешь для этого слова. Например, в какой-то момент я узнала, что в японской манге есть выдуманная болезнь. Если человек невзаимно влюблён, из его тела начинают прорастать цветы. Они заполняют все органы, ты начинаешь кашлять ими, а затем умираешь. Я подумала написать про это песню. Единственное, что у меня было – это название такой болезни – ханахаки. Уже потом придумала, что это слово рифмуется с маками, а маки красные, как кровь. И получилось:
Это не кровь, это маки
Ханахаки.
Если говорить о том, почему некоторые тексты становится музыкой, а не стихами... Не бывает такого, что я сначала пишу мелодию, а потом придумываю наполнение, не случается и наоборот. Обычно музыка и текст рождаются вместе, потому что речь сама по себе музыкальна. Тем более русский язык довольно мелодичен.
Тем не менее стихи у меня тоже рождаются. В феврале я участвовала в «Поэтическом СЛЭМЕ». Это событие организовывали два творческих объединения: «Голоса города» и «Вобла». Я как раз состою в последнем. С точки зрения организации всё прошло кайфово. Особенно порадовала публика. В целом, когда идёт какое-то поэтическое выступление без музыки, удержать внимание аудитории только словом сложно. А там по людям было видно, насколько они хотели слушать, слышать и воспринимать всё происходящее.
Это было первое моё поэтическое выступление за долгий срок. Я редко испытываю мандраж перед выходом на сцену, но есть привычка сдирать кожу с пальцев, когда я думаю или нервничаю. Пришлось взять у друга чётки – иначе бы совсем без рук осталась, поскольку уже шла кровь. Во время выступления испытала кайф: отработала нормально, ничего не забыла. Это было сложно, поскольку в песне мелодия подсказывает, какие слова нужно пропеть в тот или иной момент, то есть текст вспоминается автоматически. С поэзией же другое: всё, что есть, – это слово.
На «Слэме» именно зрители выбирали финалистов и победителя. Мы осознали, что публика очень устала от социальной повестки. У меня было две программы, и сначала я решила читать именно на общественно важные темы. Поэтому, думаю, в финал и не прошла.
«Всё, что ты можешь, – быть добрым и помогать другим»
Последний альбом, «Подростковый минимализм», рос, как мышцы, – через боль. Многие отмечали, что у меня сильно изменилась риторика. Другими стали темы, о которых говорю. Если альбом «Детские травмы» был написан, когда я только-только узнала, что у меня клиническая депрессия, то «Подростковый минимализм» создан после пары рецидивов. Когда я сначала чувствовала улучшения от антидепрессантов и думала: «Кайф, всё закончилось, я больше в эту яму не вернусь», – а потом случалось так, что бросала лекарства, а яма, оказывается, становилась всё глубже.
На написание альбома ещё наложились другие жизненные обстоятельства: например, отъезд из России. Так вышло, что я должна была сдать готовый альбом лейблу в идеале в конце сентября. Потом это перенеслось... В итоге отдала его только в конце марта. Почему? Я планировала, что всё лето и начало осени буду еженедельно ездить к своему продюсеру. Думала, начнём работать, сводить, и я вовремя всё отдам. Ну а потом, в конце сентября, случается то, что случается… Вскоре я переезжаю в Таиланд. Думала, что месяца на четыре, но по личным причинам пробыла там две недели. Потом я обратно вернулась в страну. Было сложно: только-только привыкла, что покинула дом, у меня уже жизнь перевернулась на 180 градусов. Я не понимала, как барахтаться дальше, но надо было продолжать делать музыку.
Если говорить про сами песни, они получились более многогранными с точки зрения отношений к поднимаемой мною теме. В альбоме «Детские травмы» была конкретная тематика: проживание обид, небольшой бунт. «Подростковый минимализм» рассказывает про момент, когда ты понимаешь: не всё так однозначно. Осознаёшь, что не можешь осуждать людей за то, как они поступали с тобой, потому что ты не знаешь их бэкграунд. Всё, что можешь, – быть добрым и помогать другим, когда тебя об этом просят.
«Этот город очень суров, но в то же время добр»
Прозвучит самонадеянно, но Екатеринбург у меня ассоциируется с моей музыкой. Этот город очень суров, но в то же время добр с теми, кого принимает, считает своими. Мои песни такие же. С одной стороны, я очень много говорю о важных вещах: о социальном, о каких-то человеческих эмоциях, о тяжелых ситуациях. Но с другой − не выдаю всю подноготную сразу. Скорее, вручаю ключ, даю людям возможность почувствовать, что они не одиноки в своих проблемах. Ещё я заставляю слушателей копать глубже. Чтобы понять текст моей песни, нужно не просто послушать её, а проследить контекст, посмотреть, что я транслирую за рамками, например, в соцсетях. С Екатеринбургом всё также: в городе скрыто гораздо больше, чем мы видим своими глазами. Думаю, у меня есть право говорить так самонадеянно: его мне дали слушатели. Больше полугода назад, прямо перед Новым годом, я выпустила песню «На Урале музыка и снег». Люди, которые уехали из города, из страны, до сих пор пишут мне. Говорят, что они включают эту песню в Казахстане или Грузии, слушают, и им становится хорошо, будто бы возвращаются домой, в родные места.
Кроме моих песен, кажется, с Екатеринбургом ассоциируется только «Курара». Тема, конечно, заезженная, но всё же. У них очень индустриальное звучание, подходит для города с множеством заводов. Если брать кого-то не из местных... даже не знаю. Такое ощущение, что, если ты не с Урала, ты не споешь так, как звучит Екатеринбург.
Над материалом работали: Мария Деменева, Марина Золотарёва, Виктория Граб
Фото: Виктория Остин
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив