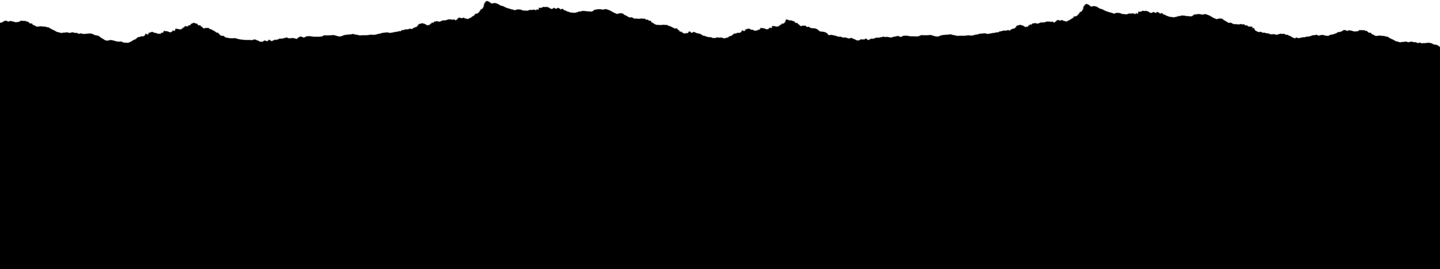Дмитрий Волосников: «Время масштабного вселения культуры во все грани жизни – это наше спасение»

Мы побеседовали с Дмитрием Волосниковым, дирижёром «Новой оперы», о работе музыканта, внедрении культуры в нашу жизнь и о самом массовом выступлении на «Ночи музыки» – «Мессе мира».
— Вы закончили нашу уральскую консерваторию в 1993 году, после – аспирантуру, и строили карьеру дирижёра всё это время. В какой момент своей жизни вы твёрдо решили быть музыкантом?
— Папа у меня работал в оперном театре: сначала пел, потом вошёл в должность режиссёра. Он брал меня на все выступления. Каждое лето я с ним уезжал на три месяца, где каждый раз – новый город. Были уникальные гастроли. Например, маршруты «Калининград – Одесса – Сочи» или «Петербург – Омск – Архангельск». Естественно, я с юности был за кулисами, слушал музыку, знал все оперы наизусть, выходил с маленькими мальчиками-чертятами в массовке на постановках. Музыка с детства оставляет на нас свою печать. Теперь, если выпадает возможность что-то сделать с детьми – я делаю, потому что понимаю, что участники детских проектов – это ребята, которые в будущем обязательно свяжут свою жизнь с музыкой.
— Вы сотрудничали со многими театрами, а за вашими плечами – постановки, где вы выступали не только в качестве дирижёра, но и как музыкальный руководитель. В чём заключается ваша работа?
— Как музыкальный руководитель я занимаюсь созданием проектов, а как дирижёр – слежу за их исполнением. Я работаю в «Новой опере», что уже подразумевает какой-то эксперимент, поэтому мне очень нравятся необычные проекты. Вот есть опера «Риголетто» Верди. Я открыл партитуру и понял, что мне так неинтересно, значит, должен что-то придумать и собрать. Недавно делал спектакль «Женитьба» по Н. Гоголю – там музыкально-драматические актёры читают текст, оркестр играет Шнитке, а хор поёт русские обработки. Сейчас время синтеза в любом виде искусства. В литературе появляется музыка, в филармонии проходят выставки, на которых играют квартеты. Сейчас время масштабного вселения культуры во все грани жизни – это наше спасение.
— Помимо партитуры во время работы дирижёр должен руководствоваться собственным слухом и чувствами. Как это происходит, и как вы на слух выстраиваете музыкальное повествование?
— Тут нужен опыт, в первую очередь. Конечно, если ты хочешь получить качественный продукт, то должен почистить каждый винтик, поэтому я приехал за неделю до выступления на фестивале. Мне все говорят: «А чего вы приехали, у вас концерт 23-го». Я говорю: «Мне нужно отдельно с хором позаниматься, отдельно со струнниками, отдельно с перкуссией и так далее». Зато потом все собираются и уже знают подробности того, как им нужно играть. Секрет в том, что, сначала работая с частными, ты приводишь всё к общему знаменателю. Только так становишься уверенным интерпретатором этой музыки.
— Помимо российских оркестров, вы работали с южнокорейским и немецким. Расскажите, с чего началось, как это произошло, над каким музыкальным произведением работали?
— В Южной Корее я работал полтора года. Был такой проект – опера «Ли Сун Син», написанная русским композитором Агафонниковым. У корейцев нет такого богатого классического наследия как у нас, нет своих опер. И тут они решили создать первую национальную оперу об адмирале Ли Сун Сине. Сначала я даже испугался, когда меня пригласили, думал, может какая-то религиозная секта (смеётся), а потом почитал. Оказывается, это был великий мореплаватель, создавший подводную лодку в XVI веке. Эта опера была очень популярна в Корее, и её премьерой даже планировалось объединить Южную и Северную Корею 15 лет назад, но не получилось. В Германии у нас был проект «Военный реквием» Бриттона. Мы играли в городах-побратимах, которые во время войны пострадали в разные года, но в один день. Реквием звучал там в исполнении трёх оркестров и хоров из Англии, России и Германии. Это была такая акция на 60 лет победы.

— Особенность фестиваля «Ночь музыки» в том, что он сочетает музыку разных жанров и стилей, а потому не на всех сценах будет подготовленный и осведомленный слушатель. Какой посыл несёт классическая музыка в «массы», почему её нужно слушать?
— Мы играем не чисто классическую музыку. «Адиемус» Карла Дженкинса содержит в себе все стили: фолк, джаз, этно, кто-то слышит арабские мотивы, японские, ирландские. Язык из их мира, эсперанто, который придумал сам Дженкинс, построен на фонемах. Эти фонемы напоминают в некоторых номерах японский язык, есть даже пара русских фраз. Поэтому в этом проекте может утонуть любой зритель – тут есть на любой вкус, на любой возраст, даже на любой уровень развития. Другое дело вторая часть концерта – «Вокализ» С. Рахманинова. В этом году мы отмечаем 150-летие одного из самых великих композиторов. Ну и Прокофьев, конечно, в программе тоже есть. Оба – гении ХХ века, и обойтись без них нельзя, потому что они являются не только выдающимися композиторами, но и патриотами. В наше время их музыка может настроить нас на любовь к родине.
— Связаны ли произведения в концерте концептуально?
— Нет. У Дженкинса, например, мы играем не одно произведение, там собраны части из пяти «Адиемусов». Это самый первый и известный, первый номер, остальные – это второй, третий, четвёртый, пятый. Мы их просто собрали исходя из позиции зрелищности и музыкального оформления. Все темочки очень яркие, они легко запоминаются. А вот последние номера у Дженкинса – из кантаты «Месса мира. Вооружённый человек». Причём эти номера поставлены ещё давно, в 2017 году. У нас получилась так: история детства, а потом прощания с ним. У этого концерта концепция есть, а Рахманинов и Прокофьев – это просто добавочная история к «Адиемусу».
— Получается, что вы работаете над проектом «Адиемус» с 2017 года?
— В 2017 году мы ставили полностью первый «Адиемус». Ему уже 28 лет, и он завоевал все возможные награды, а музыка первого номера даже используется в фильме «Аватар». Потом вторую версию мы собрали из пяти других частей и объединили в сюиту.
— Над сегодняшним выступлением и проектами ранее вы работаете вместе с джаз-хором Свердловской детской филармонии. Расскажите о вашем сотрудничестве.
— Я даже не представляю, как можно этот проект делать с кем-то другим. Этот хор – высочайшего уровня коллектив, для этой музыки они просто созданы. Когда был поиск команд для постановки, я понимал, что в нашей стране таким звуком не поют. Мне предлагали эстонский хор, сербский, словенский – все они по-разному выпендривались, а потом мне один профессор из Эстонии сказал: «А что вы ищете за границей, если у вас на Урале есть хор, который получил Гран-при за "Адиемус"?». Я раздобыл телефон руководителя, Марины Макаровой, позвонил, сказал: «Здравствуйте, Марина, не знаю вас по отчеству…», на что она мне: «Здравствуй, Дима!». Тогда мы выяснили, что учились у одного педагога в консерватории, только на разных курсах.
— А почему именно Дженкинс?
— Он нравится всем, не только мне. Вот на «Ночь музыки» специально приезжают друзья из Перми, Тюмени чтобы послушать «Адиемус». И оркестру нравится, а то, что нравится надо играть.
— Что конкретно нравится?
— Какая-то первобытность, когда ритм ложится на простую, но запоминающуюся мелодию – шлягер, по сути. Ну и обилие разных инструментов – одних ударных около 20. Один музыкант оркестра в одиночку играет на пяти-шести инструментах! В первом номере струнные, во втором арфа, в третьем фортепиано, потом саксофон. А хор, поющий разными голосами. Это разнообразие, выставка тембров голосов, инструментов – всё быстро меняется и получается праздник. Праздник музыки.
Над материалом работали: Леяна Бешенова, Вероника Сибагатуллина, Дарья Башлыкова
Фото: соцсети Дмитрия Волосникова
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив