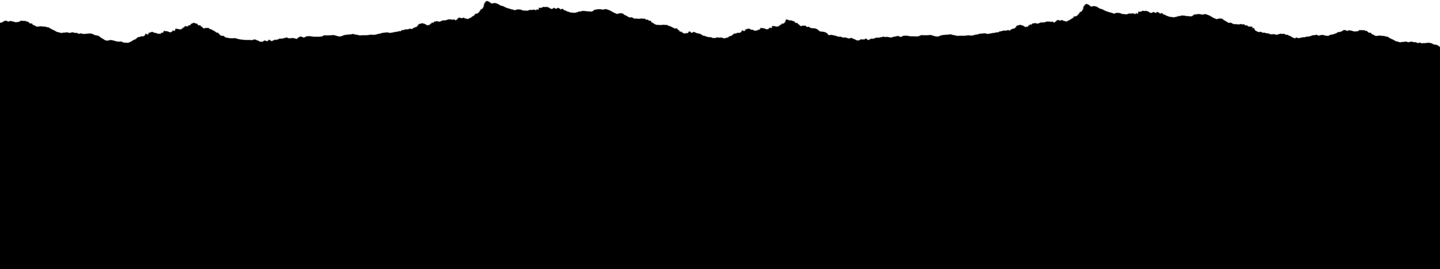Музыка как социальный лифт. Колонка Николая Шабуневича

Все причины того, почему именно люди занимаются музыкой, по большому счету, умещаются ровно в одно слово – самоактуализация. Про музыкальную индустрию, мастерство продвижения и так далее сегодня на каждом шагу говорит очень много профи и идиотов (и я не из их числа). Есть множество статей и исследований о музыкальной сфере и музыке как о культурном и социальном феномене: музыка протеста (Rage against the machine / NWA), музыка мира (Bob Marley / Electric Light Orchestra), музыка как инструмент лоббирования (REM / Disturbed), музыка меньшинств (Scissor Sisters / Judas Priest), музыка то, музыка се… Но, подумалось мне, никто не говорит о музыке как целом общественном институте.
Я много раз участвовал в различных научно-популярных движухах, где рассказывал об искусстве разрушать социальные системы, говорил об образовании, пережитках и наследии СССР и всяких системообразующих и системостабилизирующих бла-бла-факторах. Но никогда не уделял должного внимания музыке как одному из самых эффективных социальных лифтов. Не уделял этого внимания, потому что и не задумывался о том, что музыка вообще обладает признаками такого лифта. Задумался минувшим месяцем из-за немирных протестов темнокожих в США.
Нет, я не собираюсь хайповать на этой теме. Просто недавно я прочитал интересное интервью с одним темнокожим копом, который рассуждал на тему «выбора остаться в гетто или изменить свою жизнь» и много другого, чего я не буду касаться, чтобы случайно не подменить тему. Чувак в том числе говорил о социальных лифтах для темнокожих, мол, ребятки не успевают запрыгнуть в «лифт» образования и чаще выбирают армию, спорт и… музыку.
Социальный лифт
И я подумал. А ведь музыка и правда вписывается в описание социального лифта. Но, интересно, имеет ли для музыки значение твой цвет кожи? Сперва я даже обманулся, решив, что она помогает в основном угнетенным. Потому что на ум первыми пришли NWA, Тупак, 50 cent и прочие ганста-гламурные типы, которые из андеграунда перебрались в мейнстрим, сделав хип-хоп новой рок-музыкой (говоря о количестве денег в карманах артиста и массовости), перестав продавать траву на улице и взамен начав продавать миллионы экземпляров своих дисков. Там ведь все истории успеха идут по одному сценарию: был никем, но написал немного «ганстащит» – вперед к звездам! Особенно ближе к двухтысячным годам. Но вдруг понял, что расизмом сквозят мои первые ассоциации.
Решил я пройтись по эпохам и их иконам. Умышленно не трону легенд блюза и рокабилли, чтобы не путать вас цветом кожи и чтобы исследование было репрезентативным.
Легенда кантри (еще живая) Вилли Нельсон – дитя Великой депрессии, сирота и хулиган, которого не выправили ни школа, ни армия, но музыка смогла, дав ему новую жизнь на новом уровне. Том Джонс (еще живой) – сын шахтера и домохозяйки, едва не умерший в детстве от туберкулеза, что отразилось на его школьных годах, сегодня признается одним из самых богатых и влиятельных артистов британской эстрады. Почивший Джонни Кэш из семьи фермеров, не прижившийся на заводах и военной службе, стал одним из самых успешных кантри и эстрадных исполнителей двадцатого века. Боб Дилан (надеюсь, переживет всех), сын бедного торговца из маленькой еврейской общины, стал фигурой номер один в музыке XX века. Кит Ричардз, бандюга из лондонских предместий, сегодня? Таких персонажей сотни.
Прыгнем в следующее поколение. Крис Корнелл, одна из самых влиятельных фигур пост-гранжа, был средним в семье из шести детей, которые не знали отца и часто переезжали, не имея постоянного источника дохода и будучи не способными прокормить себя. Курт Кобейн продал ружье отца, чтобы были деньги на гитарный комбик. Кори Тейлор из торчка превратился в рок-идола. Дэвид Дрейман и Честер Беннигтон из суицидальных жертв издевательств вдруг превратились в рок-идолов и голос поколения.
Есть тысяча причин, чтобы гнобить человека, не вспоминая рабство веков минувших. Стало быть, цвет кожи все-таки не при чем? Для этого социального лифта – не при чем совершенно. Молодому Нельсону или Дилану жить было не проще, чем Доктору Дрэ или Тупаку. Беннигтону не было жить проще, чем «Пятидесяти центам».
Систематическая ошибка выжившего
Системе и индустрии глубоко плевать на цвет кожи и род занятий. Было, есть и будет.
Как работает этот лифт? На ум сразу приходит «систематическая ошибка выжившего», которая касается и белых, и серых, и черных. Это означает, что везет в этой сфере единицам. Звездами с шести знаковыми чеками становится еще меньше людей. Именно систематическая ошибка выжившего характеризует музыкальную индустрию XX века. Вы подходите к «социальному лифту», но внутри стоит лифтер, который нажимает кнопку не для каждого приходящего. Иногда вам надо ждать его статусных пассажиров, подкупить лифтера, либо самому стать лифтером.
Тем не менее, как социальный лифт музыка работает не менее эффективно, чем армия, образование или спорт. Даже местами лучше. Образование и армия дают средневзвешенную стабильность в жизни всем, кто подался внутрь «лифта». Спорт становится лифтом лишь для лучших. Ну а музыка среди этих лифтов совершает рейсы вверх и вниз много чаще.
В XX веке музыка была способна вышвырнуть тебя из грязи в князи, причем в американской индустрии в духе «Алло, мы ищем таланты»: уж очень суровая у них система авторского права, и написав всего лишь один хит ко времени можно потом еще долгое время получать дивиденды, да такие, что вместо крэка у тебя всегда будет хороший кокс. Например, американская музыкальная индустрия – это очень важный социальный институт, который десятилетиями не только вытаскивал из грязи единиц, но и тысячам другим давал надежду на лучшую жизнь, взяв роль лифтера на себя.
Индустрия тогда работала «лифтером», потому что для успеха были нужны контракты с лейблами. И как только они тебя заметили – вауля! Известный музыкальный продюсер Говард Бенсон вспоминал, как со своим коллективом перебрался в Голливуд, чтобы покорить индустрию, и на одной улице с ними репетировали какие-то говнари, которые собирались только ради злоупотреблений наркотиками, бухлом, женским вниманием. Тем говнарям вряд ли сулило заработать и копейку, в отличие от талантливого и трудолюбивого состава Бенсона, и это понимали все местные. Говнарями была группа «Мотли Крю», которой спустя десятилетие именитый продюсер (теперь уже «лифтер») Бенсон будет сводить материал в качестве наемника. Ошибка выжившего, которой руководила индустрия!
Индустрия, словно сито, сперва просеивала таланты и дарования на уровне локальном, оставляя самородков для прибыльного продвижения в дальнейшем. То есть в условном Манчестере мы отсматриваем сотню коллективов, из которых десяток пробьется в радиовещание и британские чарты и два доберутся до мировой сцены. Через четверть века мы вспомним только каждого десятого из тех мировых хит-парадов, да и то, если он будет заниматься чем-то внятным. Вам сейчас может быть восемьдесят, пятьдесят, тридцать или пятнадцать, но имя Пола Маккартни или Рея Чарльза вы как минимум слышали.
Плевок интернета в индустрию
Сегодня все вновь изменилось. Есть стриминг, есть проклятый ютьюб. Проклятый для тех, кто не изловчился и не запрыгнул в правильный вагон вовремя. Но этот состав мчится.
Музыка стала еще круче менять социальный статус человека, чем во времена матерой музыкальной Индустрии. Эта музыка доступна всем, причем практически без вложений на первых этапах. Один подросток способен эту индустрию нагнуть одним ловким движением. Именно в 2020 плеяда профессиональных звукарей и студий получила плевок в лицо от безликой подростковой культуры, воплощенной в Билли Айлиш. Девочка-никто и из ниоткуда, по меркам музыкального мира, но не интернета. Пять статуэток «Грэмми» для записи из спальни, против трех статуэток Гэри Кларка Мл., который писался на лучших студиях с лучшей командой и писал-то про толерантность будучи черным. Нет. Одна девочка в стремном балахоне с криво-покрашенной башкой, как громкий глас безликого поколения пассивного нонконформизма (у нас нет пола, возраста, социального слоя, сексуальных и модных предпочтений и нормального цвета волос, у нас словно бы и не было родителей, которые водят «приусы»).
Забавно, но Россия и ее скорость интернета не отстают. У «них» есть мейнстрим-дебилы, а у нас какой-нибудь «Блэкстар». Там Билли Айлиш, ну а в России-матушке, например, в аналогичный период, ее аналогом стала екатеринбурженка Лиза (Монеточка). У них «Пост Мэлоун», а у нас Моргенштерн. У них Ники Минаж, а у нас Бузова. Всему виной сети. Индустрия плачет, ведь потеряла контроль над социальным лифтом, который раньше контролировала. Лифтом, который работал по принципу «ошибки выжившего». Сегодня ты можешь разбиться в пыль, пытаясь пробиться талантом, упорством и трудом, но лейблу или продюсеру будет непросто тебя поднять наверх, если тебя не коснулась длань интернета. Прости, в этой сфере все честно. В новом лифте сейчас много людей. Главное, чтобы не случилось перегруза, и он в какой-то момент вообще не застопорился. А то не видать нам нового Боба Дилана, Вилли Нельсона и Джонни Кэша.
Уральский путь
Однажды новые «лифты» не дождутся сервисного обслуживания, потому что никто не захочет выходить, чтобы впустить внутрь слесаря для ремонта, и не поедут вверх. И при этом перегрузе люди, которые еще помнят старые лифты, пойдут к старым жженым кнопкам и обсосанному кем-то углу. Наверное. Я хочу и буду в это верить, потому что именно перенасыщенность и ступор сетевых ресурсов оживят местечковые сцены.
Как? Екатеринбург, в отличие от Москвы, не имеет развитой музыкальной инфраструктуры. Того, что называется «музыкальной экосистемой». Крепкой. Даже «Дом печати» не пережил Карантин. Я думаю, что еще десяток музыкальных баров не сможет открыться. Лейблов у нас нет. Музыкальных тусовок, что-то определяющих, тоже нет. Нет мощных студий, которые бы что-либо продвигали, и уж тем более настоящих продюсеров. Есть арт-директоры (бессильные хоть в чем-то, кроме организации гига с гонораром в пять-десять тысяч). Есть пяток более-менее [неплохих] по звуку студий и еще меньше хороших саунд-инженеров и саунд-продюсеров, которые могли бы собрать запись не «по-уральски». Есть всего четыре букера, работающих на статус площадок, а не на местечковых музыкантов и пару коммерческих концертных агентств, которым плевать на музыку вообще. Пока не звучит так, словно местечковая сцена Екатеринбурга представляет из себя хоть что-нибудь и способна нажать «кнопку лифта». Но разберемся.
Напомню про недействительность интернет-прорывов. Путь молодого коллектива или исполнителя в Екатеринбурге в сети представляет из себя что-то несуразное. Для российской сцены и уж тем паче европейской и мировой, эти прорывы едва заметны. Избранные попадают в интернет-струю или случайно, подобно выстрелившей палке, вдруг становятся яркой кометой на небосводе. Но яркие кометы, как известно, сгорают чуть быстрее. Вы давно слышали про группу «Богаччи», после того, как они подписали контракт с «Сони»? Лиза Монеточка осталась «уральским продуктом» только в летописи, да и давненько не являла себя вне конъюнктуры. Сегодня кто есть? Какой-нибудь Нилетто, например, но согласитесь, это не имеет отношения к музыке. Поэтому опираясь на предыдущие тезисы, я не беру в фокус интернет.
Интернет на уральцев не работает систематически. Тусовок, помогающих продвижению, нет, а редкие инди-движухи не формируют тусовку. Двадцать лет назад была тусовка «Курара / Сансара / АБЦ», но ребята сегодня уже сильно взрослые и самодостаточные. Десять лет назад что-то происходило на «СГТРК», но уже нет.
У больших площадок и интересы свои без продвижения уж точно. Пять лет назад возник Husky Tunes, но остыл, едва остыл пыл его создателей из-за (сторонне видимых) внутренних дрязг. Пару лет назад появился «Саундчек», молодая тусовка идейных ребят, которая не имеет четкого формата, а значит и дороги в жизнь не даст, ибо работает с уже со слышными екатеринбургскими именами.
Где бы потусоваться молодняку в надежде хотя бы на приобретение сценического опыта? Эд Ширан тоже не с ровного места начал такие песни писать ведь? Да негде. Кроме крошечного музыкального бара, который не откроется после карантина. Площадки серьезнее просят денег за аренду и работу звукарей. Поехать по городам, типа Тюмени, Челябинска, Перми, Казани, Омска? Там все еще хуже. Итак, пока вселяю только пессимизм? А где екатеринбургские лифты?
Ну-с. Есть пара лестниц, по которым ты топаешь сам при всей поклаже и без лифта.
Первая – это «Сделай сам!», так сказать. Вкладывай деньги в себя на протяжении лет и надейся, что твоя музыка хороша не только по твоему мнению. Сними свое помещение со своим аппаратом (долго, дорого, нервно). Репетируй и пиши материал (долго, дорого, нервно). Запиши крутой альбом (долго, дорого, нервно). Сними хороший клип (долго, дорого, нервно). Сгоняй на гастроли (долго, дорого, нервно). Участвуй в бесплатных, и коммерческих движухах, если ты хорош (долго, дорого, нервно). А потом все по кругу (долго, дорого, нервно). Год (долго, дорого, нервно). Два (долго, дорого, нервно). Пять (долго, дорого, нервно). Десять (долго, дорого, нервно). И может быть кто-то узнает твое лицо в трамвае и музыку в плеере.
Вторая же может облегчить твои страдания. Фестивали, гранты, шоукейсы. Они сэкономят время и деньги, но не нервы. Они возрождают понятие «ошибки выжившего», ведь кто-то получает поддержку, а остальные будут изводиться, мол, все куплено и все подонки. Оценивать организацию или качество отбора не приходится, ибо мы мало что в этом смыслим и как музыканты, и как зрители.
В Екатеринбурге не так много фестивалей, и каждый отбирает либо всех кого ни попадя, либо исходит из очень субъективного восприятия. Откуда я знаю? Я работаю на радио, и мне приходилось участвовать в отборах. Я выступаю на сцене, и мне приходилось участвовать в отборах. Те фестивали, которые есть, вы знаете сами. Шоукейс пока был лишь один. Гранты бесят, потому что ты для них всегда недостаточно концептуален.
Стоит ли делать ставку на лифт интернета или пойти пешком по одной из двух вышеописанных лестниц? Интернет – рулетка, там больше шансов проиграть капитал, нежели его нажить, и нужно рисковать. Лестницы работали и работают, но не у всех хватит силенок подняться. Самостоятельно на это способны фанатики-психи, и я среди них. Все до копейки уходит в музыку, и все заработанное призвано окупить твои килотонны затраченных часов. Шоукейсы подадут тебе руку при подъеме, но я в них не участвую, потому что очень гордый и независимый. А еще я не люблю экспертное мнение относительно своего творчества, потому что готов умереть от изнеможения, нежели делать что-то не по-своему.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции